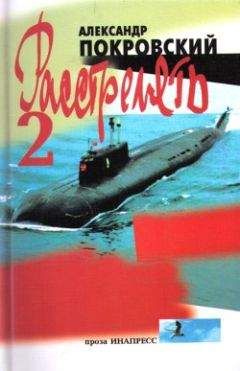А командиры дивизий, затрапезничав, хватали за срамное командиров кораблей и дежурных.
А командиры — офицеров за цугундер и на палкинштрассе; и шипели при этом ядовито: «И это только начало! Вы у меня будете лизать раскалённое железо!» — отчего у офицера внутри сразу же что-то рвалось рывками, что-то дорогое и ценное, сокровенное рвалось и ломалось, и не один раз в год, а по нескольку раз в день, из-за чего офицер (наш) ежечасно и ужасно был готов к подвигу или к чему-нибудь такому, что помогло бы ему оставить на время в покое то драгоценное и святое, что у него, может быть, всё ещё находилось внутри и что наверняка, приди за ним когда-нибудь, ни за что там не нашарилось бы, ни за какие коврижки, фигушки потому что, улетучилось потому что, рассосалось, и если не получалось защитить то, что внутри, то есть заслонить то, что уже давно улетучилось и рассосалось, офицер брал пистолет, вгонял в ствол патрон, сэкономленный на стрельбах, и шёл на торец пирса расстреливать какого-нибудь негодяя матроса, и там, на торце, он некоторое время с удовольствием наблюдал на лице у того матроса все муки собаки Муму, а потом стрелял ему у уха, отчего что-то там происходило с барабанной перепонкой.
Оно, конечно, член с ним, с матросом, но от всех этих переживаний, от всех этих «туда-сюда-сжимай» у офицера гипертрофировалась железа, вырабатывающая семенную жидкость, она распухала у него этакой цистерной, отчего у него даже изменялась походка: вы только посмотрите, как ходят у нас офицеры, это сразу заметно, потому что жидкости много семенной — и оттого, конечно, если уж он находил себе бабу, то, естественно в этом положении, он слезал с неё только по большой нужде (или по малой) или в случае ядерного нападения.
Вот как ухнуло тогда в Окольной (всё равно не знаете, где это, к чему уточнять?), как разнесло там в шелуху склад боепитания, как вырос при этом умопомрачительный белый гриб над городом, вот тогда и побежали все, причём у всех оказались надеты только рубашки, а под ними — ничего, кроме отдельных сморщенных деталей, а некоторые успели в таком виде до Мурманска доскакать, всё своё потомство многоплодное прихватив, и все они оказались замполитами. (Эскадрон блядей летучий!)
А я знаю героев, не замполитов, конечно, которые, не бросая начатого дела, только в окошко глянули тогда на расползающееся по небу безобразие и зашептали страстно своим косоглазым певуньям: «Пока до нас долетит, десять раз успеем кончить!»
И кончали.
Десять раз.
О чём всюду потом напоминали многочисленные свидетельства — бледные сливки презервативов,— которые по весне при вытаивании усеивали откосы и собирались с гримасой омерзения палками в вёдра и относились, сморщившись, в мусорные бачки.
И полны были те бачки.
И приезжала машина из тыла, и грязнющий молчаливый матрос, которому до этого 10 лет в голову вдолдонивали, что он на службе Родину будет защищать, грузил всё это дерьмо, переворачивал сочащееся и чмокал, утрамбовывая.
А офицеры помогали грузить.
Мичмана и матросики по воскресеньям влажнели в тесной войлочной промежности где-нибудь на галере, а офицеры — в посёлке. Они поначалу взбунтовались было («мы же в погонах!»), а их быстренько переодели в гражданочку и успокоили дисциплинарно всячески, и напрягаешься, бывало, встаёшь на цыпочки, чтоб эту драгоценную бадью с дерьмом через борт машины перевалить, а с неё льётся, льётся и на плечи тебе, и в открытый от усилия рот.
И никто не заболевал простудными заболеваниями, никого не скашивал австралийский антиген, даже отрыжкой никто не страдал.
Все! Решительно все.
Все решительно были красивы, полны и сильны, как крокодилы. Таким дай что-нибудь в руки и потом не вырвешь. Таких пошли куда-нибудь и потом концов не найдёшь. Таких выпусти в поле, и они тебе всё поле проскачут — накосят-выкосят-выгребут-вывезут — или картошку соберут: у себя и в соседнем государстве.
Вот вызывают лейтенанта и говорят ему: «Поедете немедленно замените старшего на картошке в Белоруссии, а то от него, чухонца недорытого, месяц ни слуху ни духу».
И он едет.
В Белоруссию.
И там находит какое-то Богом забытое место — не то склад, не то планетарий,— напичканное в три яруса койками. А за столом там сидит недоразвитый замполит картофельного батальона и из лапши — знаете, была такая лапша в виде букв — пытается выложить слово «солитер». Лейтенант входит, говорит, кто он и всё такое, а замполит поднимает на него свои синие-синие очи, во взоре которых ничего нет, кроме мутной муки творчества, и спрашивает:
— Слушай, как правильно: «солетер» или «селитер»?
И сейчас же находится командир батальона, который, оказывается, нигде не прятался, просто здесь на койке лежал трупом. И его с койки сдёргивают, и он, обалдевший от столь обильных переживаний — лейтенанта на замену прислали! — сначала ничегошеньки не может понять, а потом до него доходит, и он бросается к лейтенанту, как Бойль к Мариотту, как Гей к Люссаку и как Левен к Гуку, и трясёт его за грудки, и сжимает страстно, и кричит; «Повтори, что ты точно меня меняешь»,— а потом он сходит с ума, бегает кругами по кубрику, орёт и пинает кровати, а на вопрос:
«Где все люди?!» — отвечает, радостно поперхнувшись: «Хрен их знает, коров где-то (эх!) е-е-ебут!»
И лейтенант немедленно садится в командирский «уазик» и долго-долго едет по безлюдной степи, воспетой когда-то Чеховым, в сопровождении мичмана, не воспетого пока никем, который говорит только о бабах, советует лейтенанту, как их выбирать, и сочится слюнями, приговаривая: «Порево-жорево-здорево» — и потирает свои маленькие потные ручки.
И первый же матрос, которого удаётся обнаружить, смертельно пьян и приклеен между чудовищными титьками у пожилой доярки — она так с ним везде и ходит, его никак не оторвать; а доярка при отбирании поднимает такой ужасный вой, так по-бабьи и зашлась, воет, как по покойному, а потом она спускает на лейтенанта всех своих коров: «Фас! Возьмите его, ирода окаянного!» И коровы долго гоняют его по навозу; всё пытаются забодать вместе с мичманом, слюнявым головотяпом, и машиной.
Но лейтенант не сдаётся, не из такого сделан, он едет в милицию, и там ему обещают помочь, дают молодца гаишника, и в первом же кювете они находят перевернутый самосвал с пьяным водителем из батальона, и лейтенант мнётся, не знает, что ему предпринять, а матрос кричит ему: «Лейтенант! Да я тебя видел на…» — и дальше он просто не успевает сказать, потому что гаишник хлопает его по лбу полосатой палкой и уже у рухнувшего тела проверяет документы, находит водительское удостоверение и с остервенением его рвёт.
Итак, лейтенант собирает всех людей и все машины, за исключением двух тарантаек, сгоревших вместе с картошкой синим пламенем, и привозит их назад, за что его обнимает и пожимает ему все его руки начпо тыла Северного флота, контр-адмирал, приговаривая при этом: «Удружил, лейтенант, все, значит, живы у тебя? Спасибо, удружил!» А когда лейтенант заикается насчёт того, чтобы те сгоревшие самосвалы списать, адмирал ему обещает, что немедленно вызовет мичмана, в чьем заведовании они до Белоруссии находились, и тот этим сейчас же займётся.
И приходит мичман. И только адмирал открывает свой рот насчёт списания инвентарного имущества, павшего в борьбе за урожай-70, как с мичманом тут же случается истерика — натуральная беда,— и он, словно только что сбрендил, ругается при адмирале матом, кричит, тыча скрюченным пальцем в лейтенанта: «К-хуй ему, к-хуй!» И его уводят под руки, плачущего, а он всё пытается обернуться и ещё в него ткнуть.
— Вот видишь? — говорит адмирал и разводит руками.— Ничего у нас с тобой не получается.
А получается только через год, когда лейтенант находит наконец того, кому можно вручить 40 литров чистейшего корабельного спирта и списать те два самосвала.
А потом лейтенант до того поднаторел в списании всякого военного барахла, до того он во вкус дела вошёл, что мог запросто подводную лодку списать со всем, что у неё внутри напичкано — с людьми и механизмами,— отвезти всё это в сторону и утопить в болоте к едрёне Фене, или мог за два старых дизеля поставить на Северный флот 10 вагонов леса, или чего-нибудь там ещё добыть, оторвать, выкрасть, выпросить.
Отчего и сделался ценнейшим кадром. А когда его — по дуге большой окружности — занесло в Москву, он вместе с корешом — за одной партой сидели — попал в Большой театр, и до начала представления, обшарив театр совершенно в поисках свежего пива, они забрели в правительственную ложу, где, закинув ногу на ногу, стекленеющим взором следили за началом оркестровки и наполнением партера, а когда партер заполнился до необходимой величины, его кореш — вместе за партой — вдруг встал и громко сказал:
— Товарищи! Проездом в нашей родной столице большой друг Советского Союза господин Замирюха! Поприветствуем его, товарищи, поприветствуем,— и зааплодировал.